Перейти к:
Фибрилляция предсердий: вчера, сегодня, завтра
https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-3-107-120
Аннотация
Введение. В результате прогресса электрофизиологических исследований сложились современные представления о механизме фибрилляции предсердий — наиболее распространенной устойчивой аритмии сердца, создающей риск тяжелых, нередко инвалидизирующих и фатальных осложнений. Несмотря на достижения фармакологии и бурный прогресс интервенционных методов лечения, полностью устранять фибрилляцию предсердий у пациентов еще не удавалось. Цель исследования — изучить в историческом аспекте основные этапы развития и совершенствования медицинской помощи пациентам с фибрилляцией предсердий в рамках общепринятых стратегий «контроля частоты» и «контроля ритма» на основе данных зарубежной и российской научной литературы. Методы. Анализ источников литературы зарубежных и российских авторов, посвященных проблемам диагностики, медикаментозного и немедикаментозного лечения фибрилляции предсердий в российской научной электронной библиотеке eLibrary.ru и поисковой системе по биомедицинским исследованиям PubMed. Результаты. В течение XX и XXI веков создавались антиаритмические препараты, способные успешно восстанавливать синусовый ритм, однако задача длительного его поддержания с помощью таких лекарственных средств оставалась не решенной. Разработка и все более широкое применение в клинической практике хирургической и особенно катетерной аблации в левом предсердии способны повысить результативность лечения фибрилляции предсердий. В последнее время возрастает роль индивидуализации выбора тактики ведения пациентов с фибрилляцией предсердий при обязательном учете их клинических особенностей. Основным направлением будущих исследований видится создание более эффективных и безопасных антиаритмических препаратов для разумного их использования в сочетании с инновационными немедикаментозными технологиями лечения фибрилляции предсердий. Заключение. В настоящей статье представлены важнейшие достижения на этапах совершенствования медицинской помощи пациентам с фибрилляцией предсердий. Намечены пути решения задач минимизации ее негативных влияний на качество жизни и прогноз пациентов
Ключевые слова
Для цитирования:
Канорский С.Г., Галенко-Ярошевский П.А., Алексеенко С.Н., Голицын С.П. Фибрилляция предсердий: вчера, сегодня, завтра. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(3):107-120. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-3-107-120
For citation:
Kanorskiy S.G., Galenko-Yaroshevsky P.A., Alekseenko S.N., Golitsyn S.P. Atrial fibrillation: Yesterday, today, and tomorrow. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(3):107-120. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-3-107-120
ВВЕДЕНИЕ
История открытия фибрилляции предсердий
С древнейших времен наличие у пациента нерегулярного пульса расценивалось как проявление болезни. Возможно, самое раннее описание фибрилляции предсердий (ФП) содержится в книге «Трактат желтого императора о внутреннем» (Huángdì Nèijīng). Считается, что императорский врач Huang Ti Nei Ching Su Wen, который жил в Китае примерно за 2 тысячи лет до нашей эры, сделал следующее письменное заключение: «Когда пульс нерегулярный и трепещущий, а биения происходят с интервалами, тогда импульс жизни угасает; когда пульс тонкий (меньше, чем слабый, но все же ощутимый, тонкий, как шелковая нить), тогда импульс жизни невелик». Связь плохого прогноза больных с хаотической нерегулярностью пульса признавалась большинством древних врачей [1].
В начале XVII века W. Harvey, открывший большой и малый круги системы кровообращения в организме человека, заметил неэффективное сердцебиение предсердия незадолго до смерти. Вероятно, это была ФП. Наблюдения W. Harvey были подтверждены и расширены в середине XVIII века J. B. de Senac, который связывал грубые нарушения сердечного ритма с поражением митрального клапана и дилатацией левого желудочка по данным аутопсии. J. B. de Senac подчеркивал, что причиной неправильной работы сердца является расширение предсердия вследствие повышенного давления в нем из-за нарушения оттока крови. Однако в течение последующих двух веков после открытий W. Harvey и J. B. de Senac артериальный пульс обычно продолжали считать не зависящим от ударов сердца. Причиной этих заблуждений мог являться «дефицит пульса» на лучевой артерии у больных с ФП и сердечной недостаточностью [2].
Термин «мерцание предсердий» (vorhofflimmern) предложили С. Rothberger и Н. Winterberg в 1909 году. Однако первое научное сообщение об этой форме аритмии было сделано значительно раньше, в 1827 году, R. Adams, считавшим ее проявлением митрального стеноза. P. Boulaud в 1835 году в своих работах по ревматизму применил для обозначения данного нарушения ритма сердца термин «бред сердца» (delirium cordis). В России первые упоминания о ФП встречаются в работах Г. И. Сокольского (1836 год), также посвященных ревматизму. В 1863 году Е. Маrеу зарегистрировал кривые пульса у больного с митральным стенозом, осложнившимся ФП. В 1907 году J. Cushny и C. W. Edmunds первыми высказывали мысль о том, что «бред сердца» имеет отношение к ФП, назвав это состояние «предсердный бред» (auricular delirium). Прорыв в диагностике ФП произошел после разработки W. Einthoven струнного гальванометра и методики электрокардиографии, с помощью которой он в 1906–1907 годах и Н. Hering в 1908 году первыми документировали ФП, связывая регистрируемые электрические явления и нерегулярный пульс. В 1909–1910 годах T. Lewis после анализа множества электрокардиограмм пришел к заключению о значительной распространенности ФП у человека. Термин «мерцательная аритмия» предложил в 1916 году Г. Ф. Ланг. В настоящее время общепринятым является термин «ФП», адекватно отражающий происходящие в ткани предсердий процессы [1].
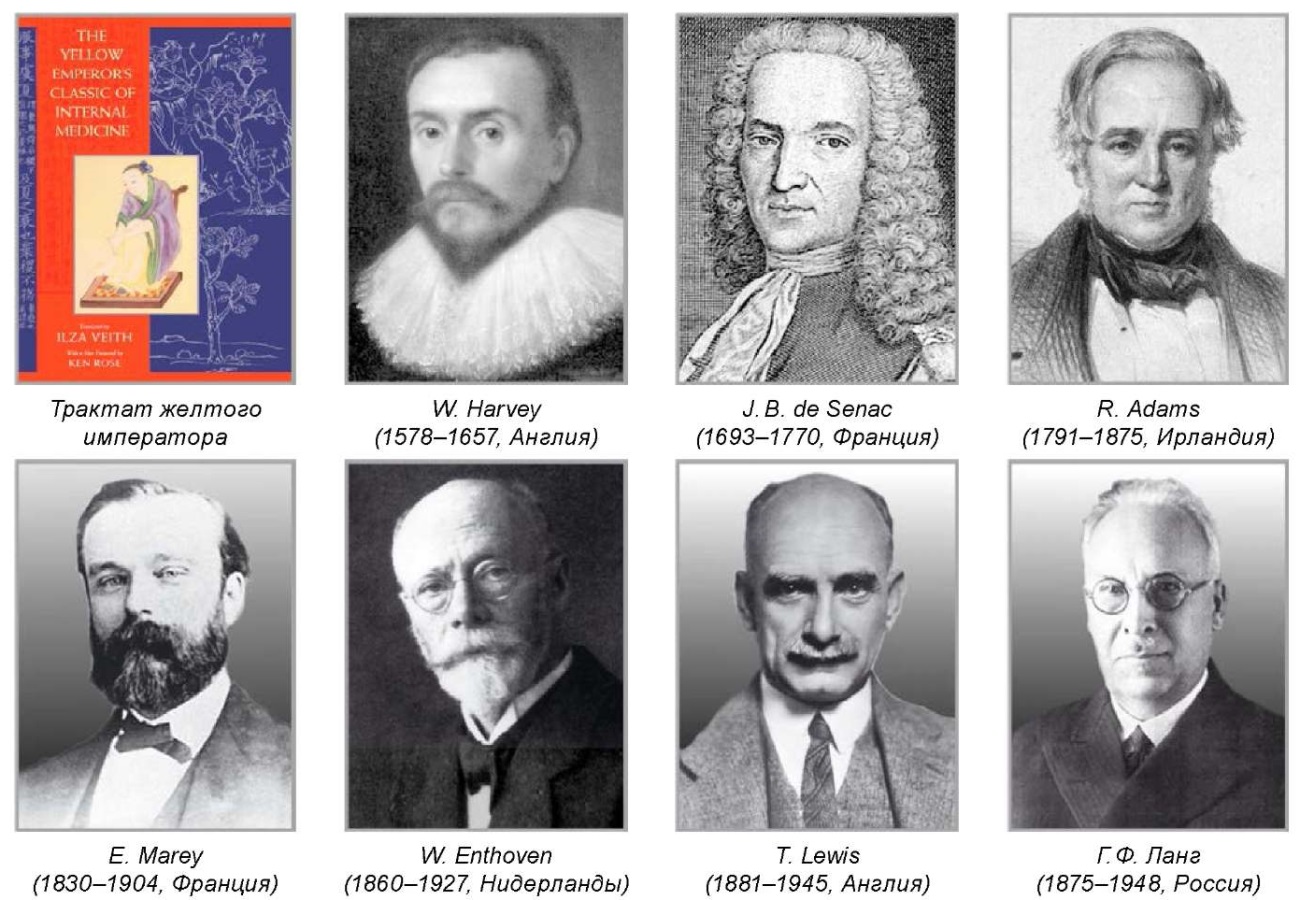
Примечание: фотографии приведены из открытых источников1
Note: The photographs are taken from open sources.
Историко-научные этапы развития представлений о фибрилляции предсердий
В первые десятилетия XX века представления о механизмах ФП складывались из результатов экспериментов на животных и клинических наблюдений. Между тем еще в 1924 году W. E. Garrey описывал в обзорной статье полученные в эксперименте данные, подтверждавшие конкурирующие теории о том, что ФП поддерживается: 1) локальными очагами эктопической активности; 2) единичным контуром повторного входа («материнской волной») или 3) множественными функционально обусловленными контурами повторного входа [3]. В 1964 году G. K. Moe et al. опубликовали первую компьютерную математическую модель ФП, которая заложила основу концепции множественных волн ФП, доминировавшую в последующие десятилетия [4]. Начиная с работ P. Coumel et al. 1978 года клиницисты осознавали важную роль вегетативной нервной системы в развитии ФП, которую учитывали при лечении пациентов [5]. В 1985 году M. Allessie et al. выполнили картирование распространения возбуждения в предсердиях у животных, что обеспечивало первую демонстрацию распространения волн микрориентри, вызывающего турбулентную предсердную активность [6]. Экспериментальные исследования M. C. Wijffels et al. продемонстрировали феномен «электрического ремоделирования» предсердий в процессе ФП, которая способна поддерживать сама себя [7]. Последующие электрофизиологические исследования триггерной активности в устьях легочных вен у пациентов с ФП создали основу для разработки и внедрения эффективных подходов к лечению этой аритмии с помощью катетерной аблации. Однако последние три десятилетия отмечены обнаружением препятствий на пути к излечению от ФП, среди которых прогрессирование фиброза предсердий, влияние генетических мутаций, оксидативного стресса, упоминавшихся в кратком руководстве по ФП исторической направленности, опубликованном 10 лет назад [8].
Описание истории развития представлений о ФП содержится в отдельных печатных работах [1][2][9][10], однако не исключает развития данного направления в связи с возрастающей актуальностью проблемы ведения все возрастающего количества пациентов с этой аритмией сердца.
Цель исследования — изучить в историческом аспекте основные этапы развития и совершенствования медицинской помощи пациентам с ФП в рамках общепринятых стратегий «контроля частоты» и «контроля ритма» на основе данных зарубежной и российской научной литературы.
МЕТОДЫ
Анализ источников литературы зарубежных и российских авторов, посвященных проблемам диагностики, медикаментозного и немедикаментозного лечения ФП, осуществлялся в российской научной электронной библиотеке eLibrary.ru и поисковой системе по биомедицинским исследованиям PubMed.
В настоящем обзоре главным образом представлены современные методы лечения ФП, их предпосылки и перспективы развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эпидемиология и осложнения фибрилляции предсердий
ФП — наиболее часто встречающаяся в клинической практике устойчивая аритмия сердца. В Фремингемском исследовании у людей в возрасте 55 лет вероятность развития ФП в последующие годы жизни составляла 37 % [11]. В настоящее время ФП зарегистрирована у десятков миллионов человек во всем мире, но, учитывая значительную долю людей с бессимптомным течением этой аритмии, непостоянными ее формами, данный показатель, несомненно, значительно выше. Распространенность диагностированной ФП в США больше, чем предполагалось ранее, и увеличилась среди людей старше 20 лет с 4,49 % в 2005–2009 годах до 6,82 % в 2015–2019 годах [12]. Согласно прогнозам к 2050 году распространенность ФП может возрасти более чем на 60 %, достигнув 12,1 миллиона человек в США и 17,9 миллиона человек в Европе к 2060 году, что обусловлено прогрессирующим старением населения, а также связано с ростом влияния таких факторов риска развития аритмии, как артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, сердечная недостаточность, употребление алкоголя, курение [13].
ФП повышает риск смерти в 1,5–2 раза [14]. Наиболее распространенным несмертельным исходом у пациентов с ФП является сердечная недостаточность, относительный риск которой 4–5 раз выше, чем у людей без ФП. Кроме того, ФП ассоциируется с увеличением риска ишемического инсульта в 2,3 раза на фоне современной антикоагулянтной терапии и в среднем в 5 раз при ее отсутствии, ишемической болезни сердца — в 1,6 раза, когнитивных нарушений — в 1,4 раза и деменции — в 1,6 раза [15][16].
Диагностика фибрилляции предсердий
Традиционно ФП диагностируется с помощью стандартной электрокардиографии, выявляющей нерегулярные интервалы R-R (при не нарушенной атриовентрикулярной проводимости), отсутствие отчетливых повторяющихся зубцов P и нерегулярные активации предсердий — волны f. Еще недавно необходимая для установления диагноза клинической ФП минимальная продолжительность типичных изменений электрокардиограммы составляла не менее 30 секунд или требовалась их регистрация на электрокардиограмме в 12 отведениях [17]. В настоящее время подтверждение ФП может включать ее регистрацию не только на электрокардиограмме в 12 отведениях, но также в одном или нескольких отведениях, а продолжительность записи не менее 30 секунд не требуется [16]. Диагностика становится более сложной с учетом частой встречаемости бессимптомных эпизодов или ФП, обнаруженной с помощью устройств для долгосрочного мониторинга, особенно тех, которые не предоставляют электрокардиограмму. Современные носимые устройства (фитнес-браслеты, смарт-часы), использующие фотоплетизмографию, а также пальпация пульса, осциллометрия, механокардиография не могут применяться для подтверждения наличия ФП, которое предполагает только электрокардиографию. Между тем широкое внедрение оппортунистического скрининга ФП в рутинную медицинскую практику, несомненно, увеличит выявляемость данной аритмии в будущем [18].
Предупреждение инсульта и системной эмболии
Кардиоэмболический инсульт является наиболее грозным внезапным осложнением ФП, приводящим к стойкой инвалидности и нередко смертельному исходу [19]. С момента своего появления в 1950-х годах антагонист витамина К варфарин являлся основным средством профилактики тромбоэмболии у пациентов с ФП, снижавшим риск инсульта на 64 % и общую смертность на 26 % по сравнению с контролем [20]. Однако ряд известных ограничений варфарина (медленное начало действия, узкое «терапевтическое окно», высокая индивидуальная вариабельность ответа на лечение, потребность в регулярном мониторинге достигающейся степени антикоагуляции и коррекции дозы, взаимодействие с пищей и множеством лекарственных средств) стимулировали создание новых пероральных антикоагулянтов. Прямой ингибитор тромбина дабигатран и ингибиторы фактора Xa (апиксабан, ривароксабан, эдоксабан) по крайней мере так же эффективны, как варфарин, в предотвращении инсульта и системной эмболии, но примерно на 50 % реже вызывают внутримозговое кровоизлияние [21], не требуют регулярного мониторинга и частой корректировки дозы.
Антикоагулянтная терапия не назначается всем без исключения пациентам с ФП, так как при низком риске тромбоэмболий может преобладать риск геморрагических осложнений антикоагуляции. B 2001 году была предложена шкала оценки риска инсульта при ФП CHADS2 (Congestive heart failure; Hypertension; Age; Diabetes mellitus; Prior Stroke or TIA or Thromboembolism), а в 2010 году — более точная и широко используемая CHA2DS2-VASc (Vascular disease; Age 65–74 years; Sex category), которую в 2024 году европейские эксперты рекомендовали заменить на CHA2DS2-VA, из которой исключено негативное влияние женского пола [16]. В дальнейшем внимание исследователей может быть сосредоточено на создании системы идентификации пациентов с ФП и низким риском тромбоэмболий, тогда как все остальные больные будут кандидатами на профилактику инсульта по умолчанию [22].
Создание пероральных антикоагулянтов нового класса — ингибиторов фактора XIa — предполагало селективное предотвращение патологического тромбообразования без влияния на физиологический гемостаз. Однако первый препарат этого класса асундексиан в 3,8 раза уступал апиксабану в способности предупреждать инсульт и системную эмболию без преимущества в безопасности, поэтому крупное рандомизированное исследование OCEANIC-AF было остановлено досрочно [23].
Предположение о том, что большинство тромбов у больных с ФП формируется в ушке левого предсердия, способствовало разработке способов его изоляции. В настоящее время чрескожная окклюзия ушка левого предсердия может быть рассмотрена у пациентов с ФП и противопоказаниями к длительному лечению антикоагулянтами для профилактики ишемического инсульта и тромбоэмболии. С этой же целью рекомендуется хирургическое закрытие ушка левого предсердия во время операции на сердце в качестве дополнения к пероральной антикоагуляции [16]. В продолжающихся рандомизированных исследованиях сопоставляются катетерная окклюзия ушка левого предсердия и прямые пероральные антикоагулянты в популяции пациентов с ФП и разной степенью риска кровотечения, что определит будущую роль интервенционного вмешательства [24].
Отдельным направлением предупреждения тромбоэмболий у пациентов с ФП является раннее выявление этой аритмии с помощью носимых устройств для последующего назначения антикоагулянтной терапии. Скрининг пожилых людей, подверженных риску ФП и инсульта, с помощью 2-недельных мониторов-наклеек на кожу ассоциировался с более высокой частотой выявления ФП и назначения антикоагулянтов, оказался экономически выгодным при расчете на весь период жизни [25]. По мере развития технологий были разработаны инновационные алгоритмы, использующие искусственный интеллект для интерпретации электрокардиограммы. Однако, прежде чем эти инструменты можно будет широко применять в клинической практике, необходима соответствующая их проверка в крупных рандомизированных исследованиях.
У пациентов с ФП, выявленной с помощью кардиостимулятора, имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора, устройства для ресинхронизирующей терапии сердца или имплантируемого кардиомонитора, прямые пероральные антикоагулянты снижали риск ишемического инсульта без уменьшения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, повышая риск большого кровотечения [26]. Пока не ясно, требует ли ФП, обнаруженная при скрининге, и ФП, выявленная на очень ранних стадиях, немедленной пероральной антикоагуляции. При этом ранняя диагностика ФП позволяет усилить контроль факторов риска и назначить лечение, модифицирующее развивающийся субстрат аритмии.
Контроль частоты желудочковых сокращений при фибрилляции предсердий
Ограничение тахикардии является неотъемлемой частью лечения ФП и часто бывает достаточным для улучшения симптомов, связанных с этой аритмией. Контроль частоты желудочковых сокращений (ЧЖС) показан в качестве начальной терапии в острых ситуациях в сочетании с терапией для контроля синусового ритма или в качестве единственного варианта лечения. В течение последних десятилетий имеются ограниченные данные о лучшем варианте и интенсивности контроля ЧЖС при ФП. Рекомендуется единый алгоритм контроля ЧЖС при пароксизмальной, персистирующей и постоянной формах ФП [16].
Урежение ЧЖС <110 ударов в минуту в покое является приемлемым начальным подходом, если нет продолжающихся симптомов или подозрения на кардиомиопатию, вызванную тахикардией, при которых показан более строгий целевой показатель — <80 ударов в минуту в покое [27]. Фармакологический контроль ЧЖС может быть достигнут с помощью бета-адреноблокаторов, дилтиазема, верапамила, дигоксина или комбинированной терапии. Из-за многочисленных экстракардиальных побочных эффектов амиодарон зарезервирован в качестве последнего средства, когда ЧЖС невозможно контролировать даже с помощью комбинированной терапии, обычно включающей селективный бета1-адреноблокатор и дигоксин.
При невозможности фармакологического контроля ЧЖС у пациентов с постоянной ФП возможна имплантация электрокардиостимулятора (начальная частота стимуляции 70–90 в минуту; при тяжелых симптомах сердечной недостаточности показана ресинхронизирующая терапия) за несколько недель до катетерной аблации атриовентрикулярного узла [16].
В ближайшей перспективе контроль ЧЖС продолжит использоваться у пациентов с многочисленными сопутствующими заболеваниями, значительным расширением левого предсердия и длительно персистирующей ФП, при которых риски антиаритмической лекарственной терапии и аблации перевешивают их потенциальную пользу.
Контроль синусового ритма у больных с фибрилляцией предсердий
Кардиоверсия при фибрилляции предсердий
Восстановление синусового ритма является одним из основополагающих компонентов стратегии контроля ритма в лечении ФП. Купирование аритмии может быть достигнуто посредством электрической или медикаментозной кардиоверсии. Электрическая кардиоверсия используется в клинической практике лечения ФП с 1960-х годов: в статье B. Lown et al. был представлен первый опыт 65 кардиоверсий у 50 пациентов [28]. Предложенное советским ученым Н. Л. Гурвичем применение бифазных синхронизированных импульсов обеспечивает устранение ФП примерно в 90 % случаев. Несмотря на высокую эффективность, электрическая кардиоверсия имеет ряд недостатков: необходимость краткосрочного наркоза/седации с риском развития гиповентиляции, гипоксии, артериальной гипотензии, вероятность электрической травмы сердца, ожога кожи, раннего рецидива ФП [29].
Медикаментозная кардиоверсия лишена этих недостатков, но может приводить к гемодинамической нестабильности, нарушать проводимость сердца, оказывать аритмогенное действие [30]. W. Frey впервые в 1918 году описал способность противомалярийного препарата хинидин купировать «мерцание предсердий» (vorhofflimmern) [31]. В последующее столетие было создано множество лекарственных препаратов для проведения медикаментозной кардиоверсии при ФП, среди которых далее упоминаются только зарегистрированные на территории Российской Федерации.
Внутривенная инфузия препарата IA подкласса прокаинамида восстанавливала синусовый ритм при недавно возникшей ФП в 50 % случаев обычно в течение 60 минут [32], а препарата IC подкласса пропафенона — в 70–90 % случаев. Пероральный прием нагрузочных доз пропафенона или другого представителя IC подкласса флекаинида устранял ФП в 75–85 % случаев в течение 3–8 часов [33][34]. В настоящее время проводятся клинические исследования новой лекарственной формы флекаинида — спрея для оральных ингаляций. Так, по данным исследования INSTANT восстановление синусового ритма отмечалось у 42,6 % больных с ФП в течение 90 минут [35]. Препараты I класса не рекомендованы при структурном поражении миокарда, сердечной недостаточности с фракцией выброса левого желудочка менее 40 % и толщиной его стенки ≥14 мм. Внутривенная инфузия препарата III класса амиодарона, который может быть применен при этих противопоказаниях, восстанавливала синусовый ритм у 34–69 % пациентов с ФП [36].
Нибентан был первым оригинальным отечественным антиаритмическим препаратом III класса, относящимся к производным 1,5-диаминопентана, синтезированным в Центре по химии лекарственных средств — Всероссийском научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте. Доклинические испытания препарата проводились в лаборатории электрофизиологии сердца Института экспериментальной кардиологии [37]. Нибентан купировал персистирующую ФП в 70 % случаев, но вызывал тахикардию Torsade de pointes в 3 % случаев, в связи с чем в настоящее время не используется [38]. Рефралон, сходный с нибентаном по химической структуре, проявляет свои эффекты в существенно более низких концентрациях, купирует персистирующую ФП примерно в 90 % случаев, что сопоставимо с результативностью электрической кардиоверсии [39][40]. При этом риск возникновения желудочковой тахикардии типа Torsade de pointes составлял всего 1,7 % [41][42]. В рандомизированном исследовании у больных с пароксизмальной формой ФП рефралон превосходил амиодарон в эффективности (восстановление синусового ритма в 96,7 % против 53,3 % случаев) и скорости купирования аритмии (медиана времени 15 против 150 минут) при сходной безопасности [43]. Таким образом, рефралон является уникальным, не имеющим аналогов в мире лекарственным препаратом, сочетающим беспрецедентно высокую эффективность в купировании ФП и безопасность применения. Этот препарат включен в клинические рекомендации «Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых» для купирования ФП любой продолжительности, в том числе как альтернатива плановой электрической кардиоверсии [44].
Противорецидивная лекарственная терапия при фибрилляции предсердий
Представление о превосходстве стратегии восстановления и поддержания синусового ритма у пациентов с ФП по сравнению со стратегией урежения ЧЖС при сохраняющейся ФП не подтвердилось в нескольких рандомизированных исследованиях, проведенных на рубеже XX и XXI веков (PIAF, AFFIRM, RACE, STAF, AF-CHF, J-RHYTHM) [45]. В наиболее крупном из них — проекте AFFIRM (n = 4060) даже отмечалась тенденция к повышению смертности в группе контроля ритма по сравнению с группой контроля ЧЖС (p = 0,08) [46]. Важным ограничением исследования AFFIRM является изменение методов лечения ФП со времени его проведения (1995–2001 годы). Сегодня стандартом лечения пациентов, принимающих антиаритмические препараты для поддержания синусового ритма, является продолжение антикоагулянтной терапии независимо от эффективности лечения ФП. Это резко контрастирует с протоколом исследования AFFIRM, в котором пациенты могли прекратить антикоагуляцию через 4 недели сохранения синусового ритма. Напротив, пациенты в группе контроля ЧЖС продолжали принимать антитромботические препараты, что сопровождалось тенденцией к снижению риска инсульта. Кроме того, один из современных методов контроля ритма — аблация в левом предсердии, не применялся в исследовании AFFIRM. Наиболее часто в группе контроля ритма применялись амиодарон и соталол, использовались утратившие актуальность в настоящее время прокаинамид, морицизин, дизопирамид и хинидин, побочные эффекты и токсичность которых могли способствовать неблагоприятным исходам [46]. Следует отметить, что в исследование AFFIRM включались пациенты старше 65 лет с давно диагностированной ФП. Оставался открытым вопрос о том, может ли раннее восстановление ритма изменить естественное течение ФП и, следовательно, долгосрочный прогноз.
Положительный ответ на него был получен в крупном рандомизированном исследовании EAST-AFNET 4 (n = 2789) [47]. В этой работе у пациентов в группе раннего контроля синусового ритма (диагноз ФП установлен в срок ≤1 года до включения в исследование) отмечалось существенное снижение риска суммы осложнений: смерть от сердечно-сосудистых причин, инсульт и госпитализация из-за ухудшения течения сердечной недостаточности или острого коронарного синдрома на 21 % по сравнению с группой контроля ЧЖС. Одной из возможных причин улучшения исходов при раннем контроле ритма может быть предотвращение прогностически значимого ремоделирования предсердий вследствие сокращения времени существования (бремени) ФП, признающегося современной целью терапии этой аритмии [48]. Несмотря на возможность снижения риска смерти от сердечно-сосудистых причин на 24 % и инсульта на 20 %, показанную в крупном метаанализе 18 исследований (n = 17 536) [49], стратегия контроля ритма пока рекомендована только для уменьшения симптомов и повышения качества жизни пациентов с ФП, у которых наблюдаются симптомы аритмии [14][16]. Препятствием на пути к широкому применению контроля ритма у пациентов с ФП являются хорошо известные побочные эффекты и риски, связанные с доступными вариантами лечения.
В последние годы для поддержания синусового ритма у пациентов с ФП в Российской Федерации и в мире с успехом применяются антиаритмические препараты подкласса IC (лаппаконитина гидробромид, пропафенон, флекаинид, этацизин) и III класса (амиодарон, дронедарон, соталол). Однако они могут вызывать новые или усугублять существующие аритмии. У пациентов с ФП, которым назначают антиаритмические препараты подкласса 1 С, не должно быть признаков структурных заболеваний сердца. Перед их назначением необходимо провести эхокардиографию, а в начале приема с помощью теста с физической нагрузкой исключить выраженное расширение комплекса QRS при высокой частоте сердечных сокращений, угрожающее желудочковой тахиаритмией. Между тем в успешном для стратегии контроля синусового ритма исследовании EAST-AFNET 4 длительная терапия препаратами подкласса 1 С оказалась безопасной, в том числе у отдельных пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, с гипертрофией левого желудочка [50].
Амиодарон может вызывать легочный фиброз, дисфункцию щитовидной железы и печени, фоточувствительность, а также голубовато-серую пигментацию кожи, оптическую нейропатию, что требует регулярного врачебного контроля. Дронедарон обладает гепатотоксическим действием. При лечении соталолом необходим тщательный контроль уровня калия в крови, интервала QT и функции почек, через которые препарат выводится в неизмененном виде [14][16].
Относительно низкая результативность и существенная токсичность доступных антиаритмических препаратов объясняют постоянные усилия по разработке и тщательному изучению новых молекул для применения у больных с нарушениями ритма сердца, что невозможно без оценки их электрофизиологических эффектов. Понимание ионных механизмов электрических процессов в клетках стало возможным после предложения в 1978 году E. Neher и B. Sakmann техники фиксации потенциала с помощью метода patch-clamp. В 1991 году они были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся функций одиночных ионных каналов в клетках», создание метода локальной фиксации потенциала [51][52].
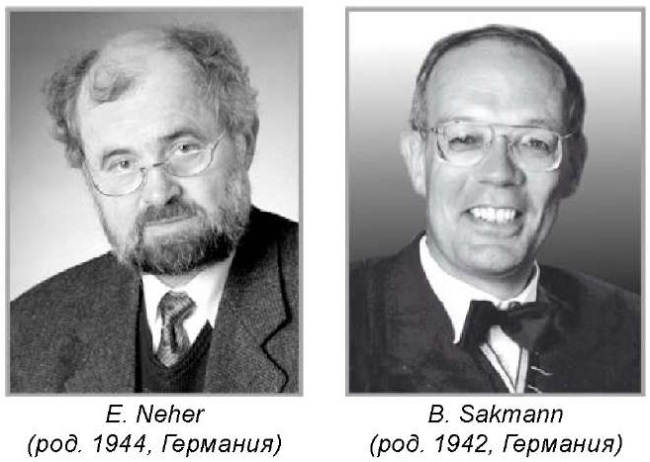
Примечание: фотографии приведены из открытых источников2
Note: The photographs are taken from open sources.
Методология разработки антиаритмических препаратов в нашей стране, предложенная в 1986 году лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным деятелем науки Российской Федерации профессором Н. В. Кавериной в Институте фармакологии АМН СССР, в 2005 году легла в основу Методических указаний по изучению антиаритмической активности фармакологических веществ [53][54]. В 2012 году членом-корреспондентом РАН, профессором П. А. Галенко-Ярошевским и соавторами эти методические указания были переизданы с учетом появления новых методов исследования антиаритмических препаратов [55].
Значительный вклад в разработку отечественных антиаритмических средств внесли академик РАН Л. В. Розенштраух, академик РАМН Р. Г. Глушков, профессор Н. В. Каверина и их сотрудники. Ими были созданы препараты этмозин, этацизин, нибентан и рефралон. Всемирная организация здравоохранения 30.03.2023 присвоила рефралону международное непатентованное название «Кавутилид» (cavutilide). В настоящее время проводятся клинические испытания новой лекарственной формы рефралона — таблеток для перорального приема с целью предупреждения рецидивов ФП и трепетания предсердий [56].
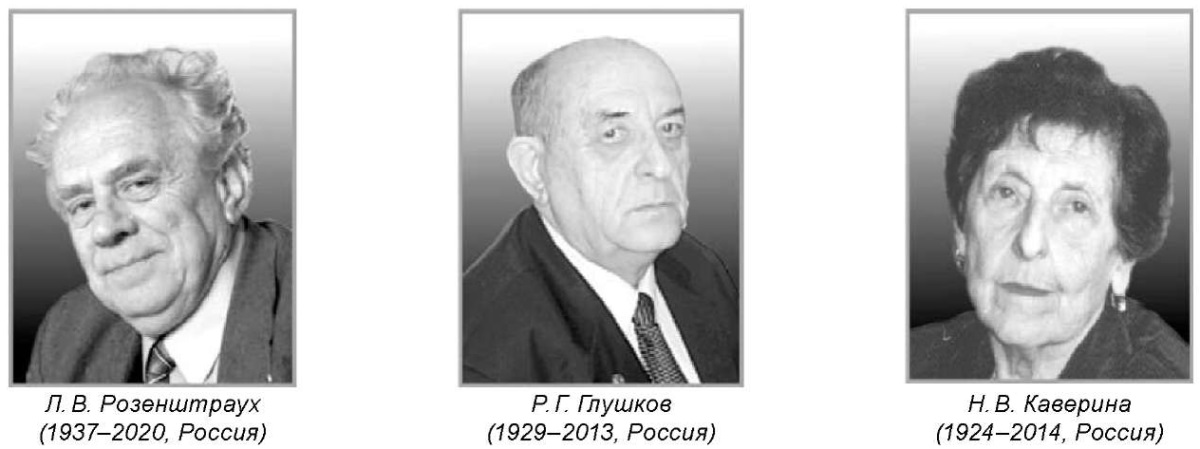
Примечание: фотографии приведены из открытых источников3
Note: The photographs are taken from open sources.
В Волгоградском государственном медицинском университете завершено доклиническое изучение вещества с условным названием «Амфедазол», обладающего свойствами антиаритмического препарата III класса. В Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва проводится изучение сочетания нибентана с L-глутаминовой кислотой, направленного на повышение противофибрилляторной активности и снижения кардиотоксичности первого. В Кубанском государственном медицинском университете продолжаются доклинические исследования соединения гидрохлорид 2-фенил-1- (3-пирролидин-1-илпропил)-1 Н-индола с условным названием «Индоперфен», синтезированного в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону) кандидатом химических наук доцентом К. С. Суздалевым под руководством академика РАН В. И. Минкина. Это вещество обладает высокой противофибрилляторной и антиангинальной активностью, а также положительными плейотропными свойствами: антиагрегантным, болеутоляющим, противовоспалительным и противосудорожным. Кроме того, при его применении не возникала полиморфная желудочковая тахикардия Torsade de pointes, не наблюдались другие серьезные неблагоприятные реакции [57].
Хирургическая и катетерная аблация при фибрилляции предсердий
С 1980-х годов разрабатывались хирургические методики устранения ФП с помощью рубцов от разрезов, призванных блокировать риентри в предсердиях. Для этого требовались обширная серия разрезов через всю толщину стенок обоих предсердий после срединной стернотомии и длительное применение искусственного кровообращения. Первоначальная технология была усовершенствована до процедуры Cox-Maze III, впервые примененной в 1988 году, с максимальной эффективностью хирургического лечения ФП. В 2002 году впервые использовалась процедура Cox-Maze IV, в которую были добавлены радиочастотная аблация и криоаблация, что обеспечивало значительно меньшую травматичность вмешательства и устранение ФП в течение 1 года после операции с вероятностью до 93 % случаев без применения антиаритмических препаратов [58].
Клинические попытки воспроизвести повреждения предсердий, подобные хирургическим, с помощью чрескожных катетерных вмешательств начались в 1990-х годах. В 1994 году впервые сообщалось о желаемом воздействии, нанесенном с помощью катетера для радиочастотной аблации [59]. Линейные воздействия на предсердия оказались малоэффективными [60], но вскоре M. Haïssaguerre et al. обнаружили, что легочные вены, как правило, являются очагами, ответственными за спонтанное начало ФП. Это открытие предоставило новую, удобную и относительно локализованную анатомическую мишень для аблации ФП [61]. Изоляция устьев легочных вен в последующем достигалась с помощью методик радиочастотной или криобаллонной катетерной аблации, эффективность и безопасность которых при пароксизмальной ФП признавались сопоставимыми [62]. Более низкая результативность катетерной изоляции устьев легочных вен при персистирующей ФП требовала, по мнению исследователей, воздействий и на другие участки предсердий. Однако никакие дополнительные повреждения, включая изоляцию задней стенки левого предсердия и аблацию очагов активации в левом и правом предсердии, не обеспечивали повышения эффективности катетерной аблации [63].

Примечание: фотография приведена из открытых источников4.
Note: The photograph is taken from open sources4.
Новая технология катетерной аблации при ФП — аблация импульсным полем может приводить к снижению риска осложнений [64] и уменьшать суммарное время существования аритмии по сравнению с термическими вариантами аблации (радиочастотной и криобаллонной) [65].
По данным метаанализа у 6400 пациентов с ФП катетерная аблация по сравнению с медикаментозной антиаритмической терапией значительно сокращала количество госпитализаций и рецидивов аритмии, улучшала качество жизни, а у пациентов с ФП и сердечной недостаточностью существенно (на 45 %) снижала смертность и повышала фракцию выброса левого желудочка [66]. В настоящее время катетерная аблация рекомендуется в качестве терапии первой линии при пароксизмальной и персистирующей ФП, если предполагаются высокая вероятность успеха процедуры и польза для пациента [14][16]. Разумеется, катетерная аблация не может рекомендоваться всем пациентам с ФП, является ресурсозатратным методом лечения, доступным только в соответственно оборудованных центрах. Клинические преимущества процедуры аблации минимальны у пациентов с исходной тяжелой легочной гипертензией, бессимптомным течением длительно персистирующей ФП, в старческом возрасте.
Гибридные вмешательства при ФП, сочетающие катетерную эндокардиальную и торакоскопическую эпикардиальную аблацию, используются с целью обеспечить высокую эффективность процедур без использования искусственного кровообращения. К недостаткам гибридной методики относятся большая продолжительность операции по сравнению с катетерной или хирургической аблацией, а также более высокая вероятность осложнений [67]. Аблация при ФП может осложняться перфорацией сердца с тампонадой, предсердно-пищеводной фистулой, транзиторной ишемической атакой/инсультом, стенозом легочной вены, параличом диафрагмального нерва, кровотечением в месте сосудистого доступа, пневмонией, а в 0,1–0,4 % случаев — смертельным исходом [14].
Масштабное финансирование исследований аблации ФП сопровождается постоянным развитием техники и технологий, приводящим к меньшему воздействию радиации, укорочению продолжительности и повышению безопасности процедуры. Дальнейшее улучшение результатов аблации ФП пока ограничивается отсутствием существенного прогресса в понимании патофизиологии этой аритмии.
Лечение сопутствующих заболеваний и коррекция факторов риска фибрилляции предсердий
В новых рекомендациях Европейского общества кардиологов большое внимание уделяется лечению сопутствующих заболеваний и факторов риска ФП [16]. Признаются необходимыми эффективное лечение артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета, снижение веса на 10 % или более при избыточной массе тела/ожирении, индивидуально разработанная программа физических упражнений, снижение потребления алкоголя (≤30 граммов в неделю). Все эти мероприятия призваны снижать вероятность рецидива и прогрессирования ФП к прогностически неблагоприятной постоянной форме данной аритмии. В крупном ретроспективном исследовании (n = 208 662) показано, что здоровый образ жизни, дополняющий ранний контроль синусового ритма, снижает риск инсульта у пациентов с ФП еще на 27 % [68].
Современные представления о соотношении стратегий контроля синусового ритма и контроля ЧЖС у пациентов с ФП представлены в таблице [адаптировано из 69].
Таблица. Соотношение стратегий контроля синусового ритма и контроля частоты желудочковых сокращений у пациентов с фибрилляцией предсердий
Table. Comparison of rhythm control and ventricular rate control strategies in patients with atrial fibrillation
|
Аспект |
Контроль частоты |
Контроль ритма |
|
Основная цель |
Контроль частоты желудочковых сокращений |
Восстановление и поддержание синусового ритма |
|
Основные средства |
Бета-адреноблокаторы, верапамил, дилтиазем, дигоксин |
Кардиоверсия, антиаритмические препараты IC и III классов, аблация |
|
«Идеальные» пациенты |
Множественные сопутствующие заболевания, значительное увеличение предсердий и длительно персистирующая ФП |
Молодой возраст, выраженные симптомы ФП, сердечная недостаточность, несмотря на контроль ЧЖС, трудности контроля ЧЖС |
|
Вероятность тромбоэмболии |
Терапия антикоагулянтами на основании оценки по шкале CHA2DS2-VASc |
Несмотря на достижение синусового ритма, пациенты будут пожизненно принимать антикоагулянты |
|
Плюсы |
Простая в применении и часто эффективная стратегия лечения |
Раннее восстановление ритма связано с более низкими смертностью от сердечно-сосудистых причин, риском инсульта и госпитализации по поводу сердечной недостаточности |
|
Минусы |
Симптомы могут сохраняться, а долгосрочные последствия контроля ЧЖС неизвестны |
Требуется регулярное наблюдение при проведении фармакотерапии и процедур аблации |
Примечание: таблица приведена по «Rate Versus Rhythm Control for Atrial Fibrillation», 2024. Сокращения: ФП — фибрилляция предсердий; ЧЖС — частота желудочковых сокращений CHA2DS2-VASc — Congestive heart failure; Hypertension; Age; Diabetes mellitus; Prior Stroke or TIA or Thromboembolism; Vascular disease; Age 65–74 years; Sex category.
Note: according to “Rate Versus Rhythm Control for Atrial Fibrillation,” 2024. Abbreviations: ФП — atrial fibrillation; ЧЖС — ventricular rate; CHA2DS2-VASc — Congestive heart failure; Hypertension; Age; Diabetes mellitus; Prior Stroke or TIA or Thromboembolism; Vascular disease; Age 65–74 years; Sex category.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ФП может вызывать клинические симптомы и гемодинамические нарушения из-за утраты функции предсердий и быстрого, нерегулярного сокращения желудочков, приводя к тяжелым осложнениям и ухудшению прогноза для больных. Поэтому стремление восстанавливать и поддерживать синусовый ритм у многих пациентов с ФП оправдано в настоящем и будет развиваться в будущем по мере совершенствования способов лечения. Можно с уверенностью предполагать прогресс в технологии аблации, а также создании эффективных и безопасных лекарственных препаратов для терапии пациентов с ФП. Сегодня решение о том, какую стратегию лечения ФП использовать и как достичь намеченных целей, следует принимать вместе с больным, учитывая сопутствующие заболевания, структурные изменения сердца, выраженность симптомов, гемодинамический статус и предпочтения пациента.
1. Трактат желтого императора. Available: https://www.abebooks.co.uk/9780520229365/Yellow-Emperors-Classic-Internal-Medicine-0520229363/plp
W. Harvey. Available: https://www.sutori.com/en/story/the-scientific-revolution-timeline--3V87QmfNmX1FZjGon6vfX336
J. B. de Senac. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A9nac-d%C3%A9tail.jpg
R. Adams. Available: https://www.vle.lt/straipsnis/robert-adams/
E. Marey. Available: https://annhyphencharlotte.wordpress.com/2011/05/23/etienne-jules-marey/
W. Enthoven. Фотография приведена по Design and construction of a functional model of electrocardiography using special-purpose integrated circuits, 2013. Available: https://www.researchgate.net/figure/Figura-5-A-Plano-frontal-B-Plano-sagital-11_fig3_297760562
T. Lewis. Available: https://www.medlink.com/media/dlrs6
Г. Ф. Ланг. Available: https://medrussia.org/6090-otechestvennye-vrachi/
2. E. Neher. Available: https://megabook.ru/article/%D0%9D%D0%B5%D1%8D%D1%80%20%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
B. Sakmann. Available: https://www.orden-pourlemerite.de/mitglieder/peter-friedrich-bertold-sakmann
3. Л. В. Розенштраух. Available: https://www.pnp.ru/social/skonchalsya-akademik-ran-leonid-rozenshtraukh.html
Р. Г. Глушков. Available: https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Н. В. Каверина. Available: https://www.perm.kp.ru/daily/26065/2973666/
4. M. Haïssaguerre. Available: https://www.ihu-liryc.fr/en/european-funding-to-solve-the-major-challenge-of-preventing-sudden-cardiac-death/
Список литературы
1. Lip GYH. Atrial Fibrillation in Clinical Practice. London: Martin Dunilz Ltd.; 2001. 234 p.
2. McMichael J. History of atrial fibrillation 1628–1819 Harvey — de Senac — Laënnec. Br Heart J. 1982;48(3):193–197. https://doi.org/10.1136/hrt.48.3.193
3. Garrey WE. Auricular fibrillation. Physiol. Rev. 1924;4:215–250. https://doi.org/10.1152/physrev.1924.4.2.215
4. Moe GK, Rheinboldt WC, Abildskov JA. A Computer Model Of Atrial Fibrillation. Am Heart J. 1964;67:200–220. https://doi.org/10.1016/0002-8703(64)90371-0
5. Coumel P, Attuel P, Lavallée J, Flammang D, Leclercq JF, Slama R. Syndrome d’arythmie auriculaire d’origine vagale [The atrial arrhythmia syndrome of vagal origin]. Arch Mal Coeur Vaiss. 1978;71(6):645–656. French.
6. Rensma PL, Allessie MA, Lammers WJ, Bonke FI, Schalij MJ. Length of excitation wave and susceptibility to reentrant atrial arrhythmias in normal conscious dogs. Circ Res. 1988;62(2):395–410. https://doi.org/10.1152/10.1161/01.res.62.2.395
7. Wijffels MC, Kirchhof CJ, Dorland R, Allessie MA. Atrial fibrillation begets atrial fibrillation. A study in awake chronically instrumented goats. Circulation. 1995;92(7):1954–1968. https://doi.org/10.1152/10.1161/01.cir.92.7.1954
8. Nishida K, Nattel S. Atrial fibrillation compendium: historical context and detailed translational perspective on an important clinical problem. Circ Res. 2014;114(9):1447–1452. https://doi.org/10.1152/10.1161/CIRCRESAHA.114.303466
9. Fazekas T. A pitvarremegés attekinto története [The concise history of atrial fibrillation]. Orvostort Kozl. 2007;53(3–4):37–68. Hungarian
10. Oral H, Morady F. Ablation of Cardiac Arrhythmias: Past, Present, and Future. Circulation. 2024;150(1):4–6. https://doi.org/10.1152/10.1161/CIRCULATIONAHA.124.068298
11. Staerk L, Wang B, Preis SR, Larson MG, Lubitz SA, Ellinor PT, McManus DD, Ko D, Weng LC, Lunetta KL, Frost L, Benjamin EJ, Trinquart L. Lifetime risk of atrial fibrillation according to optimal, borderline, or elevated levels of risk factors: cohort study based on longitudinal data from the Framingham Heart Study. BMJ. 2018;361:k1453. https://doi.org/10.1152/10.1136/bmj.k1453
12. Noubiap JJ, Tang JJ, Teraoka JT, Dewland TA, Marcus GM. Minimum National Prevalence of Diagnosed Atrial Fibrillation Inferred From California Acute Care Facilities. J Am Coll Cardiol. 2024;84(16):1501– 1508. https://doi.org/10.1152/10.1016/j.jacc.2024.07.014
13. Dai H, Zhang Q, Much AA, Maor E, Segev A, Beinart R, Adawi S, Lu Y, Bragazzi NL, Wu J. Global, regional, and national prevalence, incidence, mortality, and risk factors for atrial fibrillation, 1990-2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2021;7(6):574–582. https://doi.org/10.1152/10.1093/ehjqcco/qcaa061
14. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, Benjamin EJ, Chyou JY, Cronin EM, Deswal A, Eckhardt LL, Goldberger ZD, Gopinathannair R, Gorenek B, Hess PL, Hlatky M, Hogan G, Ibeh C, Indik JH, Kido K, Kusumoto F, Link MS, Linta KT, Marcus GM, McCarthy PM, Patel N, Patton KK, Perez MV, Piccini JP, Russo AM, Sanders P, Streur MM, Thomas KL, Times S, Tisdale JE, Valente AM, Van Wagoner DR; Peer Review Committee Members. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2024;149(1):e1– e156. https://doi.org/10.1152/10.1161/CIR.0000000000001193
15. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke. 1991;22(8):983– 988. https://doi.org/10.1152/10.1161/01.str.22.8.983. PMID: 1866765
16. Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, Casado-Arroyo R, Caso V, Crijns HJGM, De Potter TJR, Dwight J, Guasti L, Hanke T, Jaarsma T, Lettino M, Løchen ML, Lumbers RT, Maesen B, Mølgaard I, Rosano GMC, Sanders P, Schnabel RB, Suwalski P, Svennberg E, Tamargo J, Tica O, Traykov V, Tzeis S, Kotecha D; ESC Scientific Document Group. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2024;45(36):3314– 3414. https://doi.org/10.1152/10.1093/eurheartj/ehae176
17. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G, Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, Lettino M, Lip GYH, Pinto FJ, Thomas GN, Valgimigli M, Van Gelder IC, Van Putte BP, Watkins CL; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021;42(5):373– 498. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612
18. Zeitler EP, Chew DS, Mark DB. Opportunistic Screening for Subclinical Atrial Fibrillation: It Is Cost-Effective, but Is It Effective? Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2023;16(11):e010485. https://doi.org/10.1152/10.1161/CIRCOUTCOMES.123.010485
19. Kato Y, Tsutsui K, Nakano S, Hayashi T, Suda S. Cardioembolic Stroke: Past Advancements, Current Challenges, and Future Directions. Int J Mol Sci. 2024;25(11):5777. https://doi.org/10.1152/10.3390/ijms25115777
20. Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med. 2007;146(12):857–867. https://doi.org/10.1152/10.7326/0003-4819-146-12-200706190-00007
21. Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, Hoffman EB, Deenadayalu N, Ezekowitz MD, Camm AJ, Weitz JI, Lewis BS, Parkhomenko A, Yamashita T, Antman EM. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2014;383(9921):955–962. https://doi.org/10.1152/10.1016/S0140-6736(13)62343-0
22. Lip GYH, Teppo K, Nielsen PB. CHA2DS2-VASc or a non-sex score (CHA2DS2-VA) for stroke risk prediction in atrial fibrillation: contemporary insights and clinical implications. Eur Heart J. 2024;45(36):3718–3720. https://doi.org/10.1152/10.1093/eurheartj/ehae540
23. Piccini JP, Patel MR, Steffel J, Ferdinand K, Van Gelder IC, Russo AM, Ma CS, Goodman SG, Oldgren J, Hammett C, Lopes RD, Akao M, De Caterina R, Kirchhof P, Gorog DA, Hemels M, Rienstra M, Jones WS, Harrington J, Lip GYH, Ellis SJ, Rockhold FW, Neumann C, Alexander JH, Viethen T, Hung J, Coppolecchia R, Mundl H, Caso V; OCEANIC-AF Steering Committee and Investigators. Asundexian versus Apixaban in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2025;392(1):23–32. https://doi.org/10.1152/10.1056/NEJMoa2407105
24. Landmesser U, Skurk C, Tzikas A, Falk V, Reddy VY, Windecker S. Left atrial appendage closure for stroke prevention in atrial fibrillation: current status and perspectives. Eur Heart J. 2024;45(32):2914–2932. https://doi.org/10.1152/10.1093/eurheartj/ehae398
25. Reynolds MR, Stein AB, Sun X, Hytopoulos E, Steinhubl SR, Cohen DJ. Cost-Effectiveness of AF Screening With 2-Week Patch Monitors: The mSToPS Study. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2023;16(11):e009751. https://doi.org/10.1152/10.1161/CIRCOUTCOMES.122.009751
26. McIntyre WF, Benz AP, Becher N, Healey JS, Granger CB, Rivard L, Camm AJ, Goette A, Zapf A, Alings M, Connolly SJ, Kirchhof P, Lopes RD. Direct Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Patients With Device-Detected Atrial Fibrillation: A Study-Level Meta-Analysis of the NOAH-AFNET 6 and ARTESiA Trials. Circulation. 2024;149(13):981– 988. https://doi.org/10.1152/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.067512
27. Van Gelder IC, Wyse DG, Chandler ML, Cooper HA, Olshansky B, Hagens VE, Crijns HJ; RACE and AFFIRM Investigators. Does intensity of rate-control influence outcome in atrial fibrillation? An analysis of pooled data from the RACE and AFFIRM studies. Europace. 2006 Nov;8(11):935–942. https://doi.org/10.1152/10.1093/europace/eul106
28. Lown B, Perlroth MG, Kaidbey S, ABE T, Harken DE. “Cardioversion” of atrial fibrillation. A report on the treatment of 65 episodes in 50 patients. N Engl J Med. 1963;269:325–331. https://doi.org/10.1152/10.1056/NEJM196308152690701
29. Kraft M, Büscher A, Wiedmann F, L’hoste Y, Haefeli WE, Frey N, Katus HA, Schmidt C. Current Drug Treatment Strategies for Atrial Fibrillation and TASK-1 Inhibition as an Emerging Novel Therapy Option. Front Pharmacol. 2021 Mar 4;12:638445. https://doi.org/10.1152/10.3389/fphar.2021.638445. PMID: 33897427; PMCID: PMC8058608.
30. Lévy S. Cardioversion of recent-onset atrial fibrillation using intravenous antiarrhythmics: A European perspective. J Cardiovasc Electrophysiol. 2021;32(12):3259–3269. https://doi.org/10.1152/10.1111/jce.15264
31. Frey W. Ueber vorhofflimern beim menschen und seine beseitigung durch chiniden. Berl. Klin. Wschr. 1918;55:417–419.
32. Stiell IG, Sivilotti MLA, Taljaard M, Birnie D, Vadeboncoeur A, Hohl CM, McRae AD, Rowe BH, Brison RJ, Thiruganasambandamoorthy V, Macle L, Borgundvaag B, Morris J, Mercier E, Clement CM, Brinkhurst J, Sheehan C, Brown E, Nemnom MJ, Wells GA, Perry JJ. Electrical versus pharmacological cardioversion for emergency department patients with acute atrial fibrillation (RAFF2): a partial factorial randomised trial. Lancet. 2020;395(10221):339–349. https://doi.org/10.1152/10.1016/S0140-6736(19)32994-0
33. Bellandi F, Dabizzi RP, Cantini F, Natale MD, Niccoli L. Intravenous propafenone: efficacy and safety in the conversion to sinus rhythm of recent onset atrial fibrillation--a single-blind placebo-controlled study. Cardiovasc Drugs Ther. 1996;10(2):153–157. https://doi.org/10.1152/10.1007/BF00823593
34. Reiffel JA, Capucci A. “Pill in the Pocket” Antiarrhythmic Drugs for Orally Administered Pharmacologic Cardioversion of Atrial Fibrillation. Am J Cardiol. 2021;140:55–61. https://doi.org/10.1152/10.1016/j.amjcard.2020.10.063
35. Ruskin JN, Camm AJ, Dufton C, Woite-Silva AC, Tuininga Y, Badings E, De Jong JSSG, Oosterhof T, Aksoy I, Kuijper AFM, Van Gelder IC, van Dijk V, Nuyens D, Schellings D, Lee MY, Kowey PR, Crijns HJGM, Maupas J, Belardinelli L; INSTANT Investigators. Orally Inhaled Flecainide for Conversion of Atrial Fibrillation to Sinus Rhythm: INSTANT Phase 2 Trial. JACC Clin Electrophysiol. 2024;10(6):1021– 1033. https://doi.org/10.1152/10.1016/j.jacep.2024.02.021
36. Khan IA, Mehta NJ, Gowda RM. Amiodarone for pharmacological cardioversion of recent-onset atrial fibrillation. Int J Cardiol. 2003;89(2– 3):239–248. https://doi.org/10.1152/10.1016/s0167-5273(02)00477-1
37. Розенштраух Л.В., Голицын С.П. Антиаритмические препараты нибентан и РГ-2. Природа. 2005;10(1082):51–52
38. Шубик Ю.В., Медведев М.М., Ривин А.Е. Нибентан: препарат для фармакологической кардиоверсии при персистирующей фибрилляции предсердий. Кардиология. 2005;45(3):21–25.
39. Миронов Н.Ю., Влодзяновский В.В., Юричева Ю.А., Соколов С.Ф., Голицын С.П., Розенштраух Л.В., Чазов Е.И. Проспективное рандомизированное исследование эффективности и безопасности электрической и медикаментозной кардиоверсии при персистирующей фибрилляции предсердий. Часть 1: методология исследования и оценка эффективности. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2018;14(5):664–669. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2018-14-5-664-669
40. Миронов Н.Ю., Юричева Ю.А., Влодзяновский В.В., Соколов С.Ф., Дзаурова Х.М., Голицын С.П., Шубик Ю.В., Берман М.В., Медведев М.М., Ривин А.Е., Пархомчук Д.С., Барыбин А.Е., Баландин Д.А., Баталов Р.Е., Терехов Д.С., Евстифеев И.В., Кильдеев И.Р., Пятаева О.В., Зенин С.А. Опыт клинического применения отечественного антиаритмического препарата III класса для медикаментозной кардиоверсии фибрилляции и трепетания предсердий: результаты многоцентрового исследования. Часть 1: методология исследования и оценка эффективности. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2021;17(2):193–199. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2021-03-05
41. Миронов Н.Ю., Влодзяновский В.В., Юричева Ю.А., Соколов С.Ф., Голицын С.П., Розенштраух Л.В., Чазов Е.И. Проспективное рандомизированное исследование эффективности и безопасности электрической и медикаментозной кардиоверсии при персистирующей фибрилляции предсердий. Часть 2: оценка безопасности. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2018;14(6):826–830. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2018-14-6-826-830
42. Миронов Н.Ю., Юричева Ю.А., Влодзяновский В.В., Соколов С.Ф., Дзаурова Х.М., Голицын С.П., Шубик Ю.В., Берман М.В., Медведев М.М., Ривин А.Е., Пархомчук Д.С., Барыбин А.Е., Баландин Д.А., Баталов Р.Е., Терехов Д.С., Евстифеев И.В., Кильдеев И.Р., Пятаева О.В., Зенин С.А. Опыт клинического применения отечественного антиаритмического препарата III класса для медикаментозной кардиоверсии фибрилляции и трепетания предсердий: результаты многоцентрового исследования. Часть 1: методология исследования и оценка эффективности. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2021;17(2):193–199. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2021-03-05
43. Гаглоева Д.А., Миронов Н.Ю., Дзаурова Х.М., Зельберг М.А., Юричева Ю.А., Соколов С.Ф., Голицын С.П. Результаты проспективного рандомизированного исследования по сравнению эффективности и безопасности применения рефралона и амиодарона для восстановления синусового ритма у больных пароксизмальной формой фибрилляции и трепетания предсердий. Вестник аритмологии. 2024;31(1):63–70. https://doi.org/10.35336/VA-1289
44. Аракелян М.Г., Бокерия Л.А., Васильева Е.Ю., Голицын С.П., Голухова Е.З., Горев М.В., Давтян К.В., Драпкина О.М., Кропачева Е.С., Кучинская Е.А., Лайович Л.Ю., Миронов Н.Ю., Мишина И.Е., Панченко Е.П., Ревишвили А.Ш., Рзаев Ф.Г., Татарский Б.А., Уцумуева М.Д., Шахматова О.О., Шлевков Н.Б., Шпектор А.В., Андреев Д.А., Артюхина Е.А., Барбараш О.Л., Галявич А.С., Дупляков Д.В., Зенин С.А., Лебедев Д.С., Михайлов Е.Н., Новикова Н.А., Попов С.В., Филатов А.Г., Шляхто Е.В., Шубик Ю.В. Фибрилляция и трепетание предсердий. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(7):4594. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4594
45. Camm AJ, Naccarelli GV, Mittal S, Crijns HJGM, Hohnloser SH, Ma CS, Natale A, Turakhia MP, Kirchhof P. The Increasing Role of Rhythm Control in Patients With Atrial Fibrillation: JACC State-ofthe-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2022;79(19):1932–1948. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.03.337
46. Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, Domanski MJ, Rosenberg Y, Schron EB, Kellen JC, Greene HL, Mickel MC, Dalquist JE, Corley SD; Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) Investigators. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2002;347(23):1825– 1833. https://doi.org/10.1056/NEJMoa021328
47. Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, Brandes A, Eckardt L, Elvan A, Fetsch T, van Gelder IC, Haase D, Haegeli LM, Hamann F, Heidbüchel H, Hindricks G, Kautzner J, Kuck KH, Mont L, Ng GA, Rekosz J, Schoen N, Schotten U, Suling A, Taggeselle J, Themistoclakis S, Vettorazzi E, Vardas P, Wegscheider K, Willems S, Crijns HJGM, Breithardt G; EAST-AFNET 4 Trial Investigators. Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2020;383(14):1305– 1316. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2019422
48. Becher N, Metzner A, Toennis T, Kirchhof P, Schnabel RB. Atrial fibrillation burden: a new outcome predictor and therapeutic target. Eur Heart J. 2024;45(31):2824–2838. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae373
49. Zafeiropoulos S, Doundoulakis I, Bekiaridou A, Farmakis IT, Papadopoulos GE, Coleman KM, Giannakoulas G, Zanos S, Tsiachris D, Duru F, Saguner AM, Mountantonakis SE, Stavrakis S. Rhythm vs Rate Control Strategy for Atrial Fibrillation: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. JACC Clin Electrophysiol. 2024;10(7 Pt 1):1395– 1405. https://doi.org/10.1016/j.jacep.2024.03.006
50. Rillig A, Eckardt L, Borof K, Camm AJ, Crijns HJGM, Goette A, Breithardt G, Lemoine MD, Metzner A, Rottner L, Schotten U, Vettorazzi E, Wegscheider K, Zapf A, Heidbuchel H, Willems S, Fabritz L, Schnabel RB, Magnussen C, Kirchhof P. Safety and efficacy of long-term sodium channel blocker therapy for early rhythm control: the EAST-AFNET 4 trial. Europace. 2024;26(6):euae121. https://doi.org/10.1093/europace/euae121
51. Шуваев А.Н., Салмин В.В., Кувачева Н.В., Пожиленкова Е.А., Салмина А.Б. Современные тенденции в развитии метода локальной фиксации потенциала: новые возможности для нейрофармакологии и нейробиологии. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2015;9(4):54–57.
52. Single-Channel Recording. Sakmann B, Neher E, editors. Springer US; 1995. 700 р. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1229-9
53. Дощицин В.Л., Тарзиманова А.И. Исторические аспекты применения антиаритмических препаратов в клинической практике. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2022;18(3):350–358. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2022-06-07
54. Каверина Н.В., Бердяев С.Ю., Кищук Е.П., Пасхина О.Е. Методические указания по изучению антиаритмической активности фармакологических веществ Руководство по экпериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Под ред. Р.У. Хабриева. 2-изд, перераб. и доп. М.: Медицина, 2005. 421–437 c.
55. Галенко-Ярошевский П.А., Каверина Н.В., Камкин А.Г., Турилова A.И., Богус C.К., Шейх-заде Ю.Р. Методические рекомендации по доклиническому изучению антиаритмических лекарственных средств. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Ч. 1. М.: Гриф и К, 2012. 385–416 c.
56. Юричева Ю.А., Дзаурова Х.М., Беляева М.М., Миронов Н.Ю., Соколов С.Ф., Шерина Т.А., Голицын С.П. Результаты I фазы клинических испытаний таблетированной формы антиаритмического препарата III класса. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2023;38(4):141–150. https://doi.org/10.29001/2073-8552-2023-38-4-141-150
57. Фибрилляция предсердий Состояние проблемы и перспективы создания нового противофибрилляторного средства на основе аминопроизводных индола. Под. ред. П.А. Галенко-Ярошевского, С.Н. Алексеенко, С.Г. Канорского. Краснодар: Просвещение-Юг, 2023. 747 с.
58. Lawrance CP, Henn MC, Damiano RJ Jr. Surgical ablation for atrial fibrillation: techniques, indications, and results. Curr Opin Cardiol. 2015;30(1):58–64. https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000125
59. Swartz JF, Pellersels G, Silvers J, Patten L, Cervantez D. A catheter-based curative approach to atrial fibrillation in humans. Circulation. 1994;90:1–335
60. Haïssaguerre M, Jaïs P, Shah DC, Gencel L, Pradeau V, Garrigues S, Chouairi S, Hocini M, Le Métayer P, Roudaut R, Clémenty J. Right and left atrial radiofrequency catheter therapy of paroxysmal atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol. 1996;7(12):1132–1144. https://doi.org/10.1111/j.1540-8167.1996.tb00492.x
61. Haïssaguerre M, Jaïs P, Shah DC, Takahashi A, Hocini M, Quiniou G, Garrigue S, Le Mouroux A, Le Métayer P, Clémenty J. Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins. N Engl J Med. 1998;339(10):659–666. https://doi.org/10.1056/NEJM199809033391003
62. Wu C, Li X, Lv Z, Chen Q, Lou Y, Mao W, Zhou X. Second-generation cryoballoon versus contact force radiofrequency ablation for atrial fibrillation: an updated meta-analysis of evidence from randomized controlled trials. Sci Rep. 2021;11(1):17907. https://doi.org/10.1038/s41598-021-96820-8
63. Turagam MK, Neuzil P, Schmidt B, Reichlin T, Neven K, Metzner A, Hansen J, Blaauw Y, Maury P, Arentz T, Sommer P, Anic A, Anselme F, Boveda S, Deneke T, Willems S, van der Voort P, Tilz R, Funasako M, Scherr D, Wakili R, Steven D, Kautzner J, Vijgen J, Jais P, Petru J, Chun J, Roten L, Füting A, Lemoine MD, Ruwald M, Mulder BA, Rollin A, Lehrmann H, Fink T, Jurisic Z, Chaumont C, Adelino R, Nentwich K, Gunawardene M, Ouss A, Heeger CH, Manninger M, Bohnen JE, Sultan A, Peichl P, Koopman P, Derval N, Kueffer T, Reinsch N, Reddy VY. Impact of Left Atrial Posterior Wall Ablation During Pulsed-Field Ablation for Persistent Atrial Fibrillation. JACC Clin Electrophysiol. 2024;10(5):900–912. https://doi.org/10.1016/j.jacep.2024.01.017
64. Ekanem E, Neuzil P, Reichlin T, Kautzner J, van der Voort P, Jais P, Chierchia GB, Bulava A, Blaauw Y, Skala T, Fiala M, Duytschaever M, Szeplaki G, Schmidt B, Massoullie G, Neven K, Thomas O, Vijgen J, Gandjbakhch E, Scherr D, Johannessen A, Keane D, Boveda S, Maury P, García-Bolao I, Anic A, Hansen PS, Raczka F, Lepillier A, Guyomar Y, Gupta D, Van Opstal J, Defaye P, Sticherling C, Sommer P, Kucera P, Osca J, Tabrizi F, Roux A, Gramlich M, Bianchi S, Adragão P, Solimene F, Tondo C, Russo AD, Schreieck J, Luik A, Rana O, Frommeyer G, Anselme F, Kreis I, Rosso R, Metzner A, Geller L, Baldinger SH, Ferrero A, Willems S, Goette A, Mellor G, Mathew S, Szumowski L, Tilz R, Iacopino S, Jacobsen PK, George A, Osmancik P, Spitzer S, Balasubramaniam R, Parwani AS, Deneke T, Glowniak A, Rossillo A, Pürerfellner H, Duncker D, Reil P, Arentz T, Steven D, Olalla JJ, de Jong JSSG, Wakili R, Abbey S, Timo G, Asso A, Wong T, Pierre B, Ewertsen NC, Bergau L, Lozano-Granero C, Rivero M, Breitenstein A, Inkovaara J, Fareh S, Latcu DG, Linz D, Müller P, Ramos-Maqueda J, Beiert T, Themistoclakis S, Meininghaus DG, Stix G, Tzeis S, Baran J, Almroth H, Munoz DR, de Sousa J, Efremidis M, Balsam P, Petru J, Küffer T, Peichl P, Dekker L, Della Rocca DG, Moravec O, Funasako M, Knecht S, Jauvert G, Chun J, Eschalier R, Füting A, Zhao A, Koopman P, Laredo M, Manninger M, Hansen J, O’Hare D, Rollin A, Jurisic Z, Fink T, Chaumont C, Rillig A, Gunawerdene M, Martin C, Kirstein B, Nentwich K, Lehrmann H, Sultan A, Bohnen J, Turagam MK, Reddy VY. Safety of pulsed field ablation in more than 17,000 patients with atrial fibrillation in the MANIFEST-17K study. Nat Med. 2024;30(7):2020–2029. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03114-3
65. Reddy VY, Mansour M, Calkins H, d’Avila A, Chinitz L, Woods C, Gupta SK, Kim J, Eldadah ZA, Pickett RA, Winterfield J, Su WW, Waks JW, Schneider CW, Richards E, Albrecht EM, Sutton BS, Gerstenfeld EP; ADVENT Investigators. Pulsed Field vs Conventional Thermal Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation: Recurrent Atrial Arrhythmia Burden. J Am Coll Cardiol. 2024;84(1):61–74. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.05.001
66. Providencia R, Ali H, Creta A, Barra S, Kanagaratnam P, Schilling RJ, Farkowski M, Cappato R. Catheter ablation for atrial fibrillation and impact on clinical outcomes. Eur Heart J Open. 2024;4(4):oeae058. https://doi.org/10.1093/ehjopen/oeae058
67. van der Heijden CAJ, Aerts L, Chaldoupi SM, van Cruchten C, Kawczynski M, Heuts S, Bidar E, Luermans JGLM, Maesen B. Hybrid atrial fibrillation ablation. Ann Cardiothorac Surg. 2024;13(1):54–70. https://doi.org/10.21037/acs-2023-afm-0129
68. Lee SR, Choi EK, Lee SW, Han KD, Oh S, Lip GYH. Clinical Impact of Early Rhythm Control and Healthy Lifestyles in Patients With Atrial Fibrillation. JACC Clin Electrophysiol. 2024;10(6):1064–1074. https://doi.org/10.1016/j.jacep.2024.02.016
69. Shin ED, Tran HN, Ramalingam ND, Liu T, Fan E. Rate Versus Rhythm Control for Atrial Fibrillation. Perm J. 2024;28(1):81–85. https://doi.org/10.7812/TPP/23.151
Об авторах
С. Г. КанорскийРоссия
Канорский Сергей Григорьевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии № 2
ул. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063
П. А. Галенко-Ярошевский
Россия
Галенко-Ярошевский Павел Александрович — доктор медицинских наук, профессор, чл.-корреспондент РАН, заведующий кафедрой фармакологии
ул. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063
С. Н. Алексеенко
Россия
Алексеенко Сергей Николаевич — доктор медицинских наук, профессор, ректор, заведующий кафедрой профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии
ул. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063
С. П. Голицын
Россия
Голицын Сергей Павлович — доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела клинической электрофизиологии и рентгенохирургических методов лечения нарушений ритма сердца
ул. Академика Чазова, д. 15а, г. Москва, 121552
Рецензия
Для цитирования:
Канорский С.Г., Галенко-Ярошевский П.А., Алексеенко С.Н., Голицын С.П. Фибрилляция предсердий: вчера, сегодня, завтра. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(3):107-120. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-3-107-120
For citation:
Kanorskiy S.G., Galenko-Yaroshevsky P.A., Alekseenko S.N., Golitsyn S.P. Atrial fibrillation: Yesterday, today, and tomorrow. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(3):107-120. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-3-107-120








































